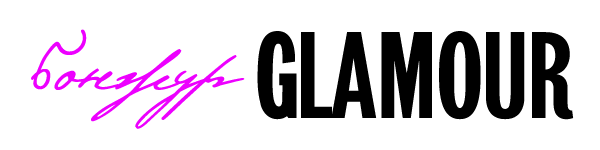В Киеве не приветствовали доброту. Там не писали произведений о приёмных отцах. Мужчин, которые берут чужих детей, не ставили в пример.
Но я не стремился к похвалам.
Я стремился к семье.
Я просто пришёл.
И остался.
Навечно.
Эпилог
Спустя два месяца после моего 75-летия меня вновь госпитализировали. На этот раз — всерьёз. Сердце работало с перебоями, словно старый двигатель — то запускался, то останавливался. Однако страха я не испытывал. Я был уверен — моя жизнь имела смысл.
Каждый день ко мне приходили дети. Кто-то молча сидел рядом, кто-то вслух читал газету, кто-то приносил тёплый бульон в термосе. Даже внуки писали письма, рисовали картины, приносили тетради с «пятёрками». Я смотрел на них всех — и в каждом видел себя. Не по крови, а по теплоте. По следу, который оставило моё присутствие в их судьбах.
А когда стало совсем тяжело, меня посетил священник. Я не был глубоко верующим, но сказал ему:
— Знаете, батюшка… Если я и попаду в рай, то не за молитвы. А за то, что однажды помог женщине с детьми… и остался.
Он молча кивнул и благословил меня.
Я ушёл спокойно. Во сне. Так, как хотел.
На похоронах собралось много людей — не из-за громких речей, а из-за тихих слёз. Не из-за чинов, а из-за любви.
Дети говорили:
— Он подарил нам дом.
— Он стал для нас примером.
— Он внушил веру, что семья — это не «кто родил», а «кто остался».
А Оля подошла к могиле с младенцем на руках. Положила у моих ног маленькую открытку и тихо прошептала:
— Папочка, это твой правнук. Он вырастет, зная, что ты — герой. Спокойный, настоящий. Наш.
И мне уже не имело значения, где я покоился — в простой земле под берёзами или под мрамором.
Потому что я осознавал:
Жизнь удалась.