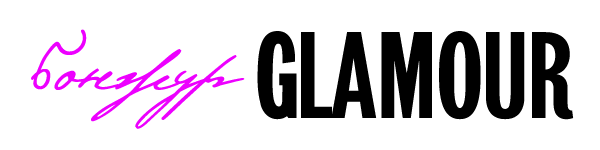Долго собирался Петрович домой. Сразу после похорон матери Таня забрала отца к себе. Чего ему здесь оставаться. Деревня потихоньку «умирает». Остались три дома: дед Михайло с бабкой, бабушка Ульяна, сухонькая, но крепенькая старушка, и через две заброшенные избы — Евдокия, язык не поворачивается назвать ее старушкой.
Она по сравнению с другими жила лучше всех: сын работает шофером СПК «Нива», поэтому каждый день проведывает, привозит продукты. Помогает по хозяйству.
Благодаря Захару и деревенские дороги чистятся зимой. Нечего отцу здесь делать, место есть в квартире, пусть привыкает к городской жизни.
В обязанности Петровича и входило-то после обеда встретить внучка из школы. Все остальное время пялился в «ящик». Годов семь или восемь он не был в Лопуховке. Еле уговорил дочку, чтоб отпустила погостить, с друзьями встретиться, если еще живы. Препятствовать не стала, видела, как отец мается:
— Поезжай и живи. Какой разговор! Можешь и совсем остаться. Напилишь дров – и зимуй там. Только запомни: по бездорожью, в распутицу весной и осенью мы не сможем к тебе приезжать.
Зять привез, добирались долго, машину трясло на лесных кочках, ехали медленно. Ключей, конечно, уже не было. Приехали, отодрали от сенных дверей наискось приколоченные доски.
Зять выгрузил пожитки деда и – назад, в город. Дед постоял, как бы собираясь с мыслями, потом робко поднялся по рассохшимся ступеням, вошел в избу.
Встал посреди комнаты и не мог шевельнуться. Вдруг послышались тихие шаги:

— А я, дай, думаю, сбегаю, узнаю, что это за машина у Петровича стоит. – Евдокия оглядела избу, давненько она тут не была. – Занавески-то вылиняли, — почти шепотом произнесла старушка. Петрович обернулся: глаза у Евдокии на удивление по-прежнему молодые, голубенькие, ясные. В молодости была очень хороша собой. Да и теперь неплохо выглядит. Седина под платком – и та ей к лицу. Все тот же голос: чистый, напевный, завораживающий.
— Я прибраться-то помогу. Что постирать – у меня машинка сама стирает, Захар подарил. Ты обживайся пока, я вечером забегу.
Сел Петрович на кровать, оперся подбородком на руки и поглядел в окно. Евдокия проворно перескакивала через засохшие былинки давно не паханного огорода. И сам с собой заговорил: — Лет пятнадцать мы с Дмитриевной, кажись, прожили. Танька ходила уже в старшие классы, а Витек, наверное, где-то в класс третий. Ох, память.
У Дуни муж по пьяни замерз зимой. Осталась женщина одна с тремя детьми. А красавица была! Не один мужик вздыхал вечерами, лежа в постели с женой, вспомнив ее статную фигуру и красивые глаза, в которых, как в море, утонуть можно.
А я тогда бригадирствовал. Как – то вечером поздно возвращался с работы, дай, думаю, загляну к Дуньке, может, ей помощь какая-нибудь нужна. Напоила чаем, угостила сдобными булками, только что, видать, испекла.
А сама-то, на булочку похожая, такая же сдобная и привлекательная, так и крутится возле меня. Скажи вот мне: какой мужик устоит, разве только евнух. Ну и согрешили мы с ней. Горячая баба, то ли у нее давно мужика не было? Но вертелась, как юла…
Спасибо не пришлось перед Дмитриевной оправдываться и врать, где задержался. Подходя с задов к своему огороду, услышал :
— Петрович, там трактор в степи заглох, горючее закончилось, надо отвезти. Этот Калмык никогда не заправится перед выездом в поле, все за него должен делать кто-то, он, видите ли, тракторист, а заправщик – уже другая профессия, — выпалил на ходу Колька, учетчик.
Вот, кто спас меня от объяснений с женой. Вернулся за полночь, жена спала. А утром ей уже доложили, что я с Колькой почти всю ночь был на работе. Пронесло!
У меня вдруг к Евдокии такая любовь проснулась, что я дышать не мог. Дмитриевна в кровать, а я на диван. Больше года, наверное, прошло. Досужие Дунькины соседки на ушко и нашептали моей Дмитриевне о моих похождениях налево. Прихожу – на пороге чемодан, мой еще армейский, и узлы.
Целую неделю ползал в ногах у Дмитриевны, просил прощения у дочки и сына. Клятвенно обещал, что такое больше никогда не повторится. Бес попутал. Простила меня. Ради детей чего не сделаешь? Дети тоже стали по-прежнему ко мне относиться. Вроде как зажили заново, все стало ладно в нашей семье.
А сердце-то свербит. Нет, нет, а приснится, чертовка. Еще раз пять, по-моему, я к ней захаживал. И то, когда жена к матери ездила, она тяжело заболела, вот моя и моталась к ней каждую неделю. Евдокия, действительно, прибежала вечером, вся запыхавшаяся, чтобы чай и пирожки с капустой не остыли. Прихватила и настойки из смородины.
Долго сидели за столом, вспоминая прожитые годы. Дуня призналась, как в девках сохла по Петровичу. Чуть, было, руки на себя не наложила, когда узнала, что он засватал Клавдию. Кто бы мог подумать, что он мог обратить внимание на эту толстушку с вечно сонными глазами.
В девках переваливалась как уточка, а замужем совсем раздобрела. И взяла-то она Петровича своей покорностью, во всем ему всегда угождала, лучший кусок со стола – мужу.
Так и прожил Петрович с Дмитриевной почти полвека, пока не случился инсульт. Жена последнее время постоянно жаловалась на давление. Если бы медичка вовремя подоспела, может, и спасли.
И однажды Евдокия прямо с порога «выдала»:
— Петрович, чего тебе тут одному маяться, переходи ко мне. В молодости не случилось, так на старости вместе будем. Дом-то твой совсем в негодность пришел, столько лет не было хозяина в нем. Того и гляди, рухнет среди ночи и привалит тебя. Ветра-то ноне ух какие! А мне Захарчик и крышу заменил, и окна новые вставил, и крылечко починил.
— Нет, Дуняша, я своей Дмитриевне обещал, что к тебе ни ногой. Встречусь на том свете с ней, как оправдываться буду? Прости, но доживать буду в своей избе. Тут все мне родное.
— Не хочешь, давай я к тебе переберусь. Вдвоем все веселее, что мы, как бирюки…
— Нет, Евдокия, ты меня извини, но я еще раз повторю: на меня жена сверху смотрит, до конца дней своих буду верен ей.